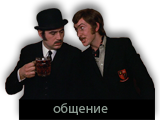Терри ГиллиамДля Senses of cinema Подобно тому, как фильмы Терри Гиллиама (Terry Gilliam) балансируют на грани между фантазией и реальностью, сам режиссер, по-видимому, тоже живет в двух противоположных мирах одновременно. Визионер, мечтатель – как только не называют его коллеги и критики, когда на самом деле это искусный мастер своего дела и педант. Волшебник Гиллиам создает королевства, в которых люди летают, а сказочные рыцари ведут ожесточенные бои, но вместе с тем остается проницательным комментатором действительности. Подчас говоря неприятную правду, он никогда не стремится причинить вред, его намерения всегда благи. Он гостеприимный хозяин и остряк, однако рьяно пропагандирует так называемую «одиночность». Он – и маленькая девочка, и стареющий Дон Кихот. Интервью, текст которого приведен ниже, было взято в августе 2009 г. в чешском городе Писек, куда Гиллиама пригласили на кинофестиваль. В вашей жизни, как и в ваших фильмах, присутствуют резкие контрасты. Вы говорите, что выросли на радиопередачах, но при этом изучали изобразительное искусство. Как вам удается перескакивать с вербальных идей к такому отчетливо визуальному воплощению? Вообще-то, диплом я в конце концов получил по политологии. Изобразительным искусством я занимался, кажется, всего один семестр. Мне не понравился учитель по истории искусств – и я ушел. И поступил на политологию, потому что там нужно было изучать всего четыре предмета. А потом уже можно было заняться хоть театром, хоть восточной философией… Короче говоря, я получил довольно либеральное образование. И политология стала важной его частью. И все-таки вы стали рисовать мультфильмы и иллюстрации. Я всегда рисовал карикатуры. Рисовать я научился еще в детстве. Карикатуры хороши тем, что сразу получаешь отзывы. Например, я ставлю подпись, а рядом малюю какую-нибудь картинку – и люди восхищаются: ого, вот это да! Мне это приятно, поэтому я и рисую. Только поэтому. Рисунки мне всегда легко давались. Но когда дело дошло до экзаменов, я чуть не завалил ИЗО, потому что занимался в то время другими вещами. За то, что я нарисовал, мне ставили хорошие оценки, только рисовал я слишком мало. Потом я все-таки смог уговорить преподавателя по скульптуре поставить мне тройку. А что насчет Национальной гвардии? Вы просто не смогли этого избежать или на самом деле хотели служить? Варианта было два: или идти в армию на два года, или вступить в Национальную гвардию и просто ездить на сборы каждое лето. Тогда хоть остаток года можно жить нормально. А если трубить два года от звонка до звонка, это разве жизнь? Впрочем, я их надурил. Я всю жизнь дурю людей. И еще вы хотели стать пресвитерианским миссионером, верно? Ага. Я и в колледж поступил по пресвитерианской стипендии. На их же деньги и доучился. В моей семье церковь играла большую роль. Я рос в Миннеаполисе, среди лютеран, по большей части – скандинавов. Церковь была центром общественной жизни. Всё по-старому. То есть вы не рассматриваете церковь как социальный институт или оплот авторитарного режима, который подвергается критике в ваших фильмах? Нет, это же была протестантская церковь, а не католическая. В мое время церковь была местом, где люди могут собраться и пообщаться. Это было здорово, я очень любил церковь. Библия мне тоже, в общем-то, нравилась. Там, по-моему, записаны отличные истории, просто отличные. К тому же, это было абсолютно естественно, я об этом не задумывался: родители ходят в церковь, дети ходят вместе с ними. Так уж мы жили. И, как это со мною часто бывает, я зациклился. Я стал фанатиком. Когда я чем-то увлекаюсь, это всерьез и надолго. И я подумал: «Что ж, надо творить добро». Это ж логично. Совершенно не обязательно быть набожным человеком, чтоб изменять мир в лучшему. И против христианских миссий в Африке вы тоже не возражаете? Да нет, против многих не возражаю. Евангелисты-фундаменталисты мне не по душе, а остальные вроде бы занимаются хорошим делом. Они, по сути, не очень-то отличаются от любой благотворительной организации, они поступают правильно. Так что всё с ними в порядке. Даже в конце 18-го века, когда по всему миру понастроили церквей, они никому ничего не навязывали и не так уж пыжились, чтоб изменить мир. Пыжиться они начали уже в 19-м веке. Тогда-то евангелисты и стали обращать людей насильно, делать из них свои копии, не заботясь о местной культуре. Так что я был эдаким либералом. Я решил, что неплохо будет стать миссионером. Поезжу по миру, поучу людей читать-писать, сделаю хоть что-то хорошее в жизни. Но я часто шутил в компании прихожан, и многим моим шутки не нравились… Шутки о Боге. И я тогда подумал: «Что ж это за Бог такой, который не понимает моего юмора?» Это какие же, например, шутки? Ну, не знаю. Я просто всё поднимал на смех. Я всегда так проверяю, что имеет значение, а что – нет. Если для меня что-то важно, я попробую это высмеять, чтоб проверить: выдержит, нет? Судя по всему, Бог, обслуживавший пресвитерианскую церковь Панорама-сити, не справился с моими шутками (смеется). Тогда я сказал: «Всё, хватит. Я больше не хочу с вами разговаривать, потому что вы разучились думать». А это для меня самое главное: чтоб люди мыслили самостоятельно, а не верили безоговорочно всему, что им втюхивают. В детстве я чаще всего принимал то, что мне втюхивали, и я был рад и счастлив. Никаких проблем! Мы жили за городом, жили себе поживали, чему тут противиться? Но потом, когда вырастаешь, начинаешь понимать, как устроен мир, и до тебя доходит: «Ой, а это ведь далеко не такой прекрасный мир, как мне казалось в детстве». Тогда ты начинаешь злиться на всё, что есть в мире неправильного, и думаешь: «Что ж, я вырос в достатке, я получил образование – читать, по крайней мере, умею. Я должен сделать так, чтоб мир стал лучше». Этим-то и занимались «Монти Пайтоны» – пытались разбудить людей. Бóльшую часть жизни люди спят, плывут по течению. Они – крестьяне. Можно, конечно, быть и крестьянином. Но если эти крестьяне несут разруху по всему миру (а этим, по-моему, и занималась Америка), то лично я чувствую на себе ответственность за то, что родился американцем и получил в этой стране образование. Я должен был что-то делать. Тогда я и уехал из Америки. Так сказать, уволился (смеется). Вы отказались от американского гражданства в 2006 г. Это было практичное решение? Да, скорее практичное. Я прожил в Англии 42 года и всё это время платил налоги обеим странам. В какой-то момент мне это надоело. Потом я узнал, что, когда я умру, всё мое имущество будут оценивать американцы. Моей жене придется продать наш английский дом, чтоб заплатить налоги. И я сказал: «Какой-то бред. Всё, до свидания». Когда вы только приехали в Лондон, как к вам отнеслись «пайтоны»? С одной стороны, вы были американцем, окруженным британским юмором. С другой, в кинематографических кругах анимацию и иллюстративную живопись зачастую воспринимают как низшие жанры.
Мне удалось решить с проблему с анимацией – причем решить ее как следует, впервые в жизни. Я делал дешевые мультики: вырезал всякие штуки и двигал ими. А тогда никто ничего подобного не видел! Теперь же мои вырезки стали смотреть девять миллионов человек по «ящику». Я проснулся художником-мультипликатором, к тому же первопроходцем. Вернее, такие мультики делать уже, конечно, умели, но показывали их только в артхаусных кинотеатрах и на фестивалях. А в такие места никто, конечно, не ходит (смеется) На меня вдруг возник спрос, мне начали предлагать всякую работу. Так появилась еще одна детская передача с Майком, Терри и Эриком. Всё происходило органично, у нас не было никакого конкретного плана. Мы делали эту передачу вчетвером, а потом к нам присоединились Джон и Грэм Чепмэн (Graham Chapman). Джону хотелось поработать с Майком, он подписал контракт с ВВС – и оп! Нас стало шестеро. «Монти Пайтон». Вот так. Им всем очень нравилось то, что я делал, потому что мы с ними находились на одной комедийной и интеллектуальной волне. Только я, в отличие от них, делал упор на визуальную составляющую, на все эти жестокие и абсурдные штуки. И у меня получалось. Кто-то мне потом рассказывал, что благодаря анимации у «Летающего цирка Монти Пайтона» стало больше поклонников – за счет людей, плохо владевших английским. Их внимание изначально привлекли мои мультики, и только после этого они стали догадываться, какое это гениальное шоу. Я просто умел это делать. Постепенные восхождения не для меня: я просто беру вилку и давай ею колоть. Мне в этом смысле повезло. (смеется) Вы говорите, что, живя в самой могущественной стране мира, чувствовали на себе большую ответственность и потому захотели взглянуть на вещи по-новому. Вам удалось осуществить это в Великобритании? Нет, смотреть на вещи по-новому я начал, когда поехал по Европе автостопом. Вот тогда произошел скачок. Я объездил всю Европу, побывал даже в Марокко и в Турции – всюду. Тогда я и понял: оказывается, не все люди в мире думают так, как американцы! А отношение этих людей к поведению американцев меня вообще шокировало. Самое смешное, что я защищал свою страну, хотя на самом деле меня возмущали ее поступки. Погодите-ка, мол, это вы о моей Родине говорите! Я вскоре понял, что это никуда не годится. За пару месяцев я полностью изменился и сказал: «Посмотрите на этот мир, посмотрите, что мы с ним делаем!» Я вернулся в Америку примерно на год, а потом уже переехал в Англию. В Англии на мир смотришь иначе, хотя англичане и одержимы всем американским. Тут открывается другой обзор. А за два часа можно уже очутиться в Чехии – то есть обзор меняется очень быстро (смеется). Вы предпочитаете называть себя не auteur, а filteur. Моя задача как режиссера – выражать фильм, а не себя или кого-либо еще. Начиная работу над фильмом, я чувствую себя его слугой, слугой фильма, который хочет появиться на свет. Я ненавижу фашистские, иерархические представления о кинопроизводстве. Мне нравится быть самым равным, чуть более равным, чем все остальные. Самую малость (смеется). И – да, я действительно фильтр. В ходе работы самым разным людям приходят в голову самые разные мысли. Потому что у всех свои задачи и свое видение конечного результата. Все эти мысли поступают ко мне, и я должен их фильтровать. Если у кого-то родится идея лучше моей, я ее обязательно использую. Это же просто фантастика! Раз уж все и так припишут ее мне, почему бы ею не воспользоваться? Мы все становимся частью колоссального эксперимента, исход которого не ясен. Множество людей ощущают свою причастность, но это позитивное ощущение, в отличие от Голливуда, где тебя со всех сторон окружают невротики. Голливуд – это царство страха, потому что руководству там платят невероятные деньги. Они бояться согласиться на что-то, за что потом получат нагоняй. Атмосфера там нездоровая. Я для себя придумал такую хитрость: всегда приглашать в фильм одну-две крупных звезды. Если мы со звездами договоримся, студии не смогут нам помешать. Это действительно так: они боятся не меня, они боятся звезд. Благодаря этому я, собственно, и получил возможность снять половину своих фильмов. В рамках голливудской системы режиссер – это второстепенный персонаж, за редкими исключениями вроде Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса. Главное – актеры. Поэтому я всегда с большой осторожностью подбирал себе актеров – в смысле, это они приходили ко мне, а не я ползал за ними на коленях. В конце концов, они хотя бы понимают: самое важное – снять фильм, а не построить карьеру. Когда я снимаю кино на голливудские деньги, то стараюсь оградить свою песочницу высоченным забором. А уж в самой песочнице могут спокойно играть дети: актеры, операторы, вся съемочная группа. Мы больше ничего и не делаем – просто играем и получаем неплохие деньги за свои игры. Это здорово. Фишка в том, чтоб никогда не становиться по-настоящему взрослым человеком. Хорошие актеры не взрослеют. Вы рассказывали, что хотели стать профессиональным фокусником. Затея эта сорвалась, но в каком-то смысле вы им таки стали. С другой стороны, вы чрезвычайно скрупулезны в работе, Рэй Купер в своем документальном фильме называет вас «ответственным enfant terrible», если такое вообще возможно. Так кто же вы: ремесленник или художник? Я люблю ремесла, настоящее искусство – это и есть ремесло. Современное искусство чаще всего оказывается полным дерьмом. Меня оно не интересует, меня интересуют люди, которые действительно умеют рисовать и ваять. А вот люди, которые работают с концептуальными идеями, для меня никакого интереса не представляют. Для меня важен ремесленный подход. Мой отец был плотником и создавал по-настоящему прекрасные вещи. С этого всё, наверно, и началось. Если уж хочешь что-то делать, то научись делать это хорошо. Когда я работал в журнале «Хелп!», Харви Курцман был очень требователен к рисункам, к подбору цветов и прочему. Такая у меня выучка. И потом, я же от рождения протестант. Серьезным человеком меня, впрочем, не назовешь, зато я всегда был трудолюбив. По-настоящему раскрепостился я только в колледже, начал веселиться напропалую. И это мне тоже нравилось. Люди должны учиться играть, но начинать с игр не стоит. Сперва нужно приобрести навыки, овладеть техникой, а потом уже играй, сколько влезет. Сейчас я уже не знаю, как снимать кино. Я просто начинаю – и они появляются сами собой. Мне часто говорят: «Приходите к нам, научите нас делать фильмы». А я не знаю, как их делать, я просто делаю – и всё тут. А всё потому, что прилежно учился этому ремеслу. Для меня лучше, когда в искусстве присутствуют ограничения. У меня на днях спросили: «Если б вам дали столько денег, сколько вам хочется, и предоставили полную свободу, что бы вы сделали?» Я ответил: «Понятия не имею». Я пытался объяснить им, что бомбы работают благодаря напряжению. Если хотите что-то взорвать, надо нагнетать напряжение – и ба-бах! Ну, взрывы мне не нравятся. Но я одно знаю: рамки, в которых мне приходится работать, будь то рамки временные или финансовые, помогают добиваться более интересных результатов. Не всегда, но чаще, чем вам могло показаться. Если бы время не поджимало, я бы захотел делать всё сразу. Я ненасытен. А когда не на чем сосредоточиться, меня болтает туда-сюда, я за всё хватаюсь – и в итоге вообще ничего не выходит. Какая-то мешанина. Вы хотите сказать, что даже в фантастическом и иррациональном желательно проявлять скрупулезность? Да. Структура, форма – всё это важно просто потому, что это способ коммуникации. О таких вещах можно говорить непонятно – люди, которые хотят лишь выразить себя, часто так поступают. Но я-то стараюсь наладить связь с окружающими, в этом мое отличие. Да, я хочу рассказывать свои истории и рассказывать их по-своему, но так, чтоб другие меня понимали, чтоб мои истории находили отклик у них в душах. Что для вас важнее в кино: визуальная составляющая, которой вы, собственно, прославились, или сюжетный аспект, месседж? Важно и то, и другое. Если у меня не получается изложить сюжет, если герои кажутся плоскими, я могу на всё плюнуть. Мне часто говорят о «картинке», а я сам о ней уже почти не задумываюсь. Я составляю план, мы работаем над его воплощением в жизнь, подбираем места, костюмы… Я во всем участвую. А потом начинаются съемки – и мое внимание переключается на героев и на то, чтоб уложиться в график (смеется). Честно! Ну, сами смотрите: Ридли Скотт (Ridley Scott) целый час может подкручивать здесь и подвинчивать там, а что потом выходит?.. В визуальном плане ему, конечно, нет равных. Этот человек знает толк в красоте. Но он так долго ее создает, что актерам элементарно не остается места. Кому-то это нравится, кому-то – нет. В итоге, он вынужден идти на компромисс: бюджет превышен, студия начинает давить – и пиши пропало, приходится резать. Впрочем, одно преимущество у него есть: через пару лет он может выпустить режиссерскую версию. А какую тогда версию, позвольте спросить, мы видели в кино? А, студийную. Ридли, прости, но что ты творишь? Да, он большой талант и всё такое, но с его фильмами что-то не то. Карьера у него складывалась гораздо успешней, чем у меня, но какой-то внутренний голос как будто все время ему твердит: главное – принести прибыль, а не отстоять своя взгляды. Когда процесс близится к завершению, ты уже страшно устал. Слишком долго возился. Ты сомневаешься, всё ли работает и точно ли ты выразил свои мысли, и в этот момент повлиять на тебя очень просто. Студийное начальство – это, как правило, нервные и запуганные люди. Если сдашься и скажешь: «Боже мой, ну ладно, вырежу… Хорошо, поменяю, только отстаньте», – то допустишь большую ошибку. Я стараюсь этого избегать (смеется). А что скажете насчет других режиссеров и операторов? Кто из них оказал на вас наибольшее влияния, кого вы любите на данный момент? Повлиял на меня, само собою, Уолт Дисней (Walt Disney)… и Стэнли Донен (Stanley Donen). О нем я обычно не упоминаю, но «Поющие под дождем» (Singin’ in the Rain, в соавторстве с Джином Келли, 1952) и «Забавная мордашка» (Funny Face, 1957) – это чудесные мюзиклы. Ну, еще Бастер Китон (Buster Keaton) и Вуди Аллен (Woody Allen), Луис Бунюэль (Luis Buñuel) и Ингмар Бергман (Ingmar Bergman), Федерико Феллини (Federico Fellini) и Акира Куросава (Akira Kurosawa), и т.д. и т.п. Чуть не забыл Стэнли Кубрика (Stanley Kubrick)! Я многих режиссеров люблю, у меня эклектичный вкус. Так, теперь современники. Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro), братья Коэн (the Coen brothers). Кто там еще? Тот парень, который снял «Жизнь других» (Das Leben der Anderen) [Флориан Хенкель фон Доннерсмарк – Florian Henckel von Donnersmarck]. Вот это была замечательная картина. Что, неужели всё? Я, правда, мало сейчас смотрю, в этом моя проблема. В Европе должно появляться больше новичков. Но проблема в том, что стоит какому-то европейцу добиться успеха – и всё, они тут же убегают в Америку и начинают снимать американские фильмы. Как там его? Роланд Эммерих (Roland Emmerich). Берется человек, выросший в совершенно иной культуре, человек, который вроде бы может по-новому взглянуть на мир, и привозится в Америку, чтоб снимать точь-в-точь, как Стивен Спилберг. У нас уже есть один Спилберг, спасибо. Не понимаю, зачем так поступать, ведь куда интереснее снимать фильмы со своей, европейской точки зрения. Вот тут выделяется Франция. У французов всё всегда ладится, французское кино смотрят все. У Южной Америки дела тоже идут неплохо. Трое амигос: Гильермо [дель Торо], Альфонсо Куарон (Alfonso Cuarón) и [Алехандро Гонзалес] Иньярриту (Alejandro González Iñárritu), – приехали из Мексики – и бинго! Гильермо интересен тем, что он режиссер-традиционалист. Да, снимает он фантастику, но всё держит под контролем, котелок у него варит будь здоров. Вполне логично, что ему доверили «Хоббита». Уверен, получится необычный фильм. Альфонсо все время мечется из стороны в сторону. «И твою маму тоже» (Y tu mamá también) – вот это было кино, с ума сойти! А потом он вдруг берет и снимает «Гарри Поттера» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban). И у него получается самая лучшая серия. По крайней мере, в ней хоть что-то да происходит. И тут он делает «Дитя человеческое», которое мне совсем не понравилось. По-моему, он пытался переснять «Бразилию» (Brazil), только сам не понял, что к чему. Теперь об Иньярриту. Из «Вавилона» (Babel) можно было вырезать всю японскую часть – и фильм стал бы еще лучше. Он просто хватил лишку. Мне больше нравилось, когда он снимал «Суку-любовь». Но все хотят попасть в Голливуд, всем хочется успеха. Я пока не видел последний фильм этого бразильца Мейреллиша (Fernando Meirelles), как он там назывался? Ну, тот, где все ослепли, там еще Джулианна Мур (Julianne Moore) играет? [«Слепота» – Blindness] И этот парень, который снял «Жизнь других», уже в Голливуде. Почему, спросите? Да потому, что в Голливуде есть деньги. Потому что без денег можно снимать только небольшие арт-фильмы, которые никогда никто толком не увидит. Больше никого из-за рубежа? Я не знаком с иностранцами (смеется). А насчет Диснея вы пошутили? Нет! «Пиноккио» – один из самых любимых моих фильмов. В десятке. Это шедевр и еще раз шедевр. Поэтому мотив «Пиноккио» повторяется в «Короле-рыбаке» (The Fisher King, 1991)? Вообще-то, это уже было в сценарии, но… да, поэтому (смеется). В этом же фильме звучат такие слова: «Ницше говорил, что люди делятся на две категории. Первая – это те, кому суждено стать великими, вроде Уолта Диснея и Гитлера. Вторая – все остальные». В странной компании у вас оказывается Дисней. Гитлер, он слишком далеко зашел. Ему б бюджетные ограничения! (смеется) И всё? С ограниченным бюджетом он превратился бы в Диснея? Нет, ну, Гитлер наделал ошибок. Но сложно ведь остановить человека, которому всё дается так легко и которого никто, в общем-то, и не пытается останавливать. По-моему, все творцы – это потенциальные гитлеры. Есть, конечно, чувствительные натуры – к примеру, Джорджия О’Киф (Georgia O’Keefe). Она бы Гитлером не стала. Но слишком много в мире людей, непохожих на нее. Большинство кинорежиссеров стали бы гитлерами, дай им кто такую возможность. У вас после таких высказываний могут возникнуть неприятности. Не понимаю я, почему люди так этого боятся. Я как-то раз был в Германии на Мюнхенском кинофестивале и сказал: «Почему вы, немцы, постоянно извиняетесь за свою культуру? Немецкая культура – это же фантастика! В ней допущена всего одна «маленькая» ошибочка» (смеется). В Германии 19-го века жили выдающиеся художники, писатели, композиторы. Потом, в 1930-х, всё стало еще интересней. Но всё закончилось тем, что появился один человечек, который… С чувством цвета никаких проблем не было. Черный, красный, белый – это же отличные цвета. И костюмы сделали превосходные. Лучшая форма в истории! Мы с «пайтонами» всегда хотели сыграть нацистов, такая хорошая у них была форма. В английской армии, например, одежду шили из шерсти, и это была совершенно уродливая форма. Я ж немногого прошу: нормальный нацистский костюм! Но американские режиссеры, похоже, только продлевают эту одержимость. Любой отрицательный персонаж у них обязательно выряжен в нацистскую форму. Ага. Но люди плохо понимают, в чем суть фашизма. Все только кудахчут: «Ой, какой кошмар! Даже думать о таком нельзя! Гитлер, какой ужас!» Ну да, Гитлер был чудовищем, но как он стал им? Вот о чем интересно было бы узнать. А о Версальском договоре хоть кто-то говорит? После Первой мировой немцам настал каюк. Если честно, на Первой мировой люди зазря не гибли. И англичане, и французы – все они приложили руку, все они общими усилиями спилили сук, на котором сидели. Немцы просто проиграли войну, за что и схлопотали. Они дали начало тому, что закончилось Гитлером. Денег не было, и репарации их погубили. Знаете, что мне всегда было любопытно: почему Гитлера, Пиночета, Маргарет Тэтчер и прочих правых чудовищ никто не мог уничтожить? Их пытались убить, но никогда не убивали. А стоит леваку хоть пикнуть – и всё, кранты. Как это так получается? Не знаю. Может, Бог – тоже фашист (смеется). Как так вышло, что хорошие парни в «Бразилии» носят форму американского спецназа? Это ваша критика в адрес американского общества? Когда мы занимались дизайном этого фильма, я постоянно изучал архитектуру 30х-40х, монументальную архитектуру фашизма. То ли потому, что она фашистская по своей природе, то ли просто потому, что она мне приглянулась (смеется)… Я об этом особо не задумывался. Ну, вроде как Майкл Джексон и его понимание иконографии, его мировоззрение… Меня такие вещи забавляют. Но в кое-каких образах моя идея была, пожалуй, более четко сформулирована. А вот Майкл ничего так и не понял. И Муаммар Аль-Каддафи не понимает. Вы видели, как он недавно встречался с Берлускони? Пришел в костюме Майкла Джексона, кепка, эполеты, все дела, и телохранительницы все в форме. Возмутительно! Как будто сам Майкл нагрянул, а дело было, между прочим, как раз накануне его смерти. Может, потому он и умер: увидел, что Каддафи спер его имидж. Последний вопрос насчет «Бразилии». Когда эти солдаты бегут по лестнице, и вы показываете перевернутый пылесос, это… Ну да, вы же знаете, откуда это. «Потемкин»? Да, из «Потемкина». Потому что со мной какая штука: экшн меня утомляет. И я решил немножко повеселиться, заменить коляску пылесосом. И представьте себе – все, кто видел «Потемкина», смеются. Правда, все прочие только затылки чешут (смеется). Но по правде всё дело в том, что мне было скучно. Все только и думают, что об экшне. Ну, думаю, попробуем иначе. Вы видели фильм «Джонни Д.» (Public Enemies)? Это фильм Майкла Манна, и с технической точки зрения он само совершенство. Но смотришь его, смотришь – а тебе наплевать на героев. Никакой в этом фильме нет души. Манн в каждом кадре показывает, как он умен. Это проблема целого поколения американских режиссеров, в том числе Земекиса и Кэмерона. Все они, пускай и в разной степени, хотят абсолютной власти. Меня это ужасно злит. Вот сейчас Земекис увлекся технологией «захвата движения». Ему даже на улицу выходить не надо. Но у него получаются идиотские миры, потому что это не анимация. В этих мирах отсутствует жизнь, сплошная подделка, страна франкенштейнов. А все в восторге. Кэмерон, конечно, будет поактивней. Я встречался с ним, когда он работал над «Аватаром». Он придумал изумительную систему с такой как бы виртуальной камерой, только она все-таки физический объект. Он еще пытается заниматься рукотворным кинематографом, это занятно. Только теперь это должно быть 3D. Значит, основная задача – научиться обращению с машинами… Да, чтоб пореже иметь дело с актерами (смеется). Во всех ваших фильмах присутствуют неизменные элементы: сны, фантазии, путешествия во времени, визуальные изыски. С другой стороны, вы во многом опираетесь на свой опыт в общественных науках: «тотальные институты» Эрвинга Гоффмана, повторяющаяся концепция «паноптикума» и так далее. В какой мере вы как режиссер зависите от себя как общественника? Эта часть меня никуда не девается, я всегда об этом думаю. В каждом фильме я проявляю свое отношение к текущим событиям в мире. Это моя реакция на мир в целом или отдельные его аспекты. «Бразилия» очень привязана к той эпохе, но слегка преображена оруэлловским романом «1984», которого я, правда, на тот момент не читал. Прочел я его только тогда, когда закончил фильм. Но «1984» витал в воздухе. Я просто знал, о чем там речь, потому что все только о нем и говорили. Так часто бывает, что люди, скажем, обсуждают фильм, но они его не видели, разве что прочли рецензию-другую. А всё ж обсуждают. Я постоянно это делаю, постоянно читаю рецензии – а потом, придя на вечеринку, могу участвовать в дискуссии (смеется). По-моему, таких знатоков развелось слишком много. Так что я лишь реагирую на происходящее. «Бандиты во времени» (Time Bandits, 1981) были реакцией на невозможность снять «Бразилию» (смеется). Ладно, подумал я, напишу сценарий семейного фильма. А потом уже начинаешь вертеть эту идею так и сяк. Сначала появляется замысел: человек совершает преступление и возвращается в прошлое. Очень просто и очень мило. Но что мне понравилось больше всего, так это божьи помощники, которым рай показался слишком скучным местом и которые решили, что веселее будет стать преступниками. Может, я и сам так поступил, бросив церковь, – стал преступником, начал снимать кино и шутить. Это тоже своего рода преступление (смеется). В каждом ли вашем фильме можно вычленить основную идею? «Джабервоки» (Jabberwocky, 1977) производит скорее впечатление коллажа, мозаики. Правильно. В этом фильме я пытаюсь, к примеру, избежать влияния «пайтонов». Но на фестивале в Таормине зрителям показалось, что я в этом фильме комментирую политику Тэтчер, когда я сам ни о чем таком и не думал. Подсознательно вышло. Но на самом деле это фильм о подобных вещах, о союзах, возникавших в то время. Тэтчер же союзы разрушала, что само по себе ужасно, хотя мне они тоже не нравились. Они обрели слишком большую власть. Да, «Джабервоки» – он об этом. Или вступай в гильдию – или сам выбирайся из капкана, отгрызая себе ногу… Типа того. И потом, там же есть ремесленники. Отец занимается своим ремеслом, а сын, в общем-то, хочет стать торговцем подержанных машин. Хочет заняться бизнесом. Так оно и было при Тэтчер. И кому-то в Таормине показалось, что это самое резкое обличительное высказывание в сторону премьера (смеется). Я вырос в Америке, где коммунизм считался «врагом у ворот», так что всё это невольно проступило в фильме. «Бандиты во времени» – это, признаюсь, более развлекательная картина, но мы думали о ее посыле. С «Бразилией» тоже было весело. Я сказал себе: «А сейчас я выложу всё, что меня бесит». В «Приключениях барона Мюнхгаузена» (The Adventures of Baron Munchausen, 1988) описано противостояние рационального подхода и воображения. Да, это никуда не делось. Но «Мюнхгаузен» посвящен скорее идее побега, эскапизма. Джексон – он здравомыслящий парень, это верно. Здравомыслие против воображения. Но я также хотел рассказать о том, как обман может быть ближе к истине, чем факты. Я тогда много об этом думал, и мы решили включить это в фильм. К тому же, это история отца и дочери. Я чувствовал себя старым, у меня росла дочь. Так что семейный сюжет тоже сбрасывать со счетов нельзя (смеется). Что там дальше было? «Король-рыбак». Съемки «Мюнхгаузена» были сущим кошмаром, но у нас получился хороший фильм. Студия его похоронила заживо. У меня началась страшная депрессия, я думал, что больше не буду снимать кино, не выдержу такого удара еще раз. И тут мне предложили «Короля-рыбака». Я прочел сценарий, и он показался мне замечательным. Я понимал тех персонажей, я просто влюбился в диалоги. Мне всё понравилось. Более того, всё было совсем просто: четыре, считай, человека. Деньги давал Голливуд, и я подумал: «Что ж, я положу голову льву в пасть и подожду. Хуже, чем с «Мюнхгаузеном», уже не будет» (смеется). Хотя сценарий написали не вы, в нем все равно присутствует социальная критика, нацеленная на культуру яппи, человеческую заносчивость, идеализм, рассудочность и безумие… О да! Это всё были идеи сценариста. Но когда я это прочел, то сокрушался, что не я их сформулировал, настолько они были мне близки. Приятно было работать под присмотров церберов, но при этом снимать простое кино и собрать на площадке хороших актеров. К тому же, я пытался доказать миру, что умею обращаться не только с «картинкой», но и с персонажами. И это были прекрасные персонажи. Потому-то фильм и удался. В «Двенадцати обезьянах» (Twelve Monkeys, 1995) вы опять использовали чужой сценарий. И в нем опять слышалась социальная критика, но акцент сместился в сторону экологических проблем. Да, всё это было туда вложено. Кстати, когда сразу после премьеры поднялась шумиха вокруг вируса Эбола, я подумал: «Опять! Опять мы всех обогнали!» (смеется). Это был провидческий сценарий. Мне хотелось заставить людей задуматься о том, что для спасения мира пяти миллиардам населения, возможно, придется погибнуть. Люди отказывались в это верить, им это претило. Им не хотелось думать, сколько людей умерло, чтоб человеческая раса как таковая смогла выжить. Потому что в Америке и западном мире в целом люди привыкли считать, что будут жить вечно. Они ценят жизнь. Но теперь-то мы знаем, что миру нужны перемены. На ум приходит слово «отбор». Скоро начнется отбор, и я не знаю, как он будет проходить. Сценаристу показалось, что за дело возьмется чума. Но, может, война? Голод? Это извечные фавориты. Мне, в общем-то, кажется, что людей развелось слишком уж много. А что еще хуже, многим людям хочется всё у нас отнять. В том-то и беда. Это мальтузианская идея: есть популяция, есть ресурсы, и когда баланс нарушится – берегитесь! Произойдет что-то страшное. Не уверен, что именно, но что-то да произойдет. Мне понравилось, что сценаристы затронули эти «зеленые» темы, что природа у них давала людям отпор посредством эпидемии. Это был блестящий сценарий. Взять «Взлетную полосу» (La Jetée, 1962) Криса Маркера (Chris Marker) и слепить из нее «Двенадцать обезьян» – это было мощно. В какой мере этот фильм принадлежит лично вам? Он вообще не мой. Они встретились с Крисом Маркером и сказали: «Мы не хотим делать римейк, мы хотим снять фильм по мотивам вашего». И он остался доволен. Они договорились, и я считаю, что это было правильно, потому что «Взлетная полоса» – это такой маленький чудесный желудь, а «Двенадцать обезьян» – гигантский дуб, разросшийся во все стороны. Они об одном и том же, но один лаконичен, а другой – огромен. Я ничего не менял в сценарии, это был их сценарий. И в «Короле-рыбаке» я тоже ничего не менял. Я только просмотрел ранние черновики, написанные до того, как студия начала «помогать» сценаристу. И добавил только один момент – вальс на вокзале. И снимал я всё по-другому, выбирал другие вещи. Сценарий был вроде как к фильму Вуди Аллена. Я взял только самое основное, а для меня нет ничего лишенного смысла. Джек изначально должен был жить в лофте в Манхэттене, а это как раз было всякого смысла лишено. Но стоило поселить Джека в башню из стекла и стали – и смысл появился: он обречен. Так я и работал: брал заложенные в сценарии идеи и воплощал их визуально. Офисное здание, из которого выходит Лидия, – это гигантская каменная крепость, которая могла бы быть простым магазином. Это мой метод: я не меняю сценарий, не меняю идеи, я просто подбираю для них особенную форму. Обшарпанное будущее в «Двенадцати обезьянах» – это тоже ваших рук дело? По сути, да. «Король-рыбак» был типичной манхэттенской историей, а я с помощью зрительных образов преобразил ее в нечто большее, придал ей символическое измерение. В «Двенадцати обезьянах» всё уже было готово, мне оставалось только воссоздать это. Больше всего я переживал, чтобы «Обезьяны» не напоминали «Бразилию», поэтому изо всех сил старался снять этот фильм иначе. А он все равно похож на «Бразилию» (смеется). Я пытался показать этот скрытый мир, мир того, что уцелело. Сначала я хотел снимать на старых электростанциях и даже нашел несколько подходящих в Филадельфии и Балтиморе. Ими никто не пользовался, потому что в 50х индустрия покинула города Восточного побережья и двинулась на запад. Так что, в каком-то смысле это и было прошлое, и мы углубились в него, в этот заброшенный мир. Будущее у вас получается мрачным, а прошлое – неизменно светлым. Даже Средневековье выходит смешным. Да, это потому, что меня беспокоит будущее. Как по мне, мы живем в великие времена, но неизвестно, сколько это продлится. Мы – самые везучие поколения, а мое поколение – самое везучее из них. В 40х годах мы были детьми, и война на нас не отразилась. Мы пережили период, когда дела шли паршиво, приходилось больше трудиться, но это нормально, ничего страшного в этом нет. А потом рванули шестидесятые… Веселые были деньки. Теперь же у всех всего вдоволь, а вот идей не хватает. Люди перестали быть личностями, они превратились в винтики одной большой системы. Вот это меня пугает. А как вы представляете себе прошлое? Я рад, что мы живем сейчас. Меня интересуют отдельные аспекты прошлого, потому что лишиться комфорта я не боюсь. В моем французском доме, который я купил тридцать пять лет назад, семь лет не было электричества. Мне просто не хотелось его проводить. Я хотел спрятаться от современности. Рассказать одну забавную штуку? Я работал над фильмом «Янки при дворе короля Артура», адаптацией книжки Марка Твена. В ней американец отправляется в прошлое. Мне понравилось, что рыцари идут в походы, сражаются с гигантами и драконами, но на самом деле это всё понарошку. На самом же деле, они сражаются с крупными собаками или чем-то таким. Но когда они возвращаются в замок, то хвастают во все горло. Все верят их россказням, потому что так жить интересней. Тут ведьма, там людоед – и всё, мир становится интересен, мир уподобляется сказке. Мне на этом и хотелось заострить внимание: на том, что лучше уж верить в небылицы, чем жить в мире объяснимых фактов. Сейчас людей, похоже, не особо занимает окружающий мир. Мы слишком хорошо его изучили, поэтому люди прячутся в кинематографе, а мне это кажется ужасным. Я бы предпочел, чтоб мне рассказывали сказки, рассказывали прямо здесь, в этой комнате. Это совсем не то, что ходить в кино, хотя походы в кино и были сказками, на которых я вырос. Вы говорите, что в своих фильмах нащупываете границу между реальностью и вымыслом, иными словами – между скукой и фантазией. Реальная жизнь и впрямь кажется вам унылой? Нет, реальная жизнь – это ваше воображение. Нужно только выбирать, каким воображением вы будете пользоваться: своим или тем, что навязано медиа, телевидением. Это как с моим сыном, когда ему было двенадцать лет. Мы живем в очень хорошем районе Лондона, магазины находятся в ста метрах от нашего дома, но он все равно боялся ходить в магазин. Потому что знал только один мир – мир, увиденный по телевизору. А там сплошь изнасилования, грабеж и убийства. Вся индустрия развлечений на этом построена, и кино – не исключение. И весь мир, простиравшийся от порога дома до входа в магазин, был для него таким, и он боялся этого мира. А это ведь вымышленный мир. Это фантазии телевизионщиков. Да, все мы созданы из того, что видели и о чем читали. Абсолютно все. Но нужно же поддерживать свое видение мира. Вот что меня по-настоящему тревожит. Взять, к примеру, «Твиттер». Что это вообще такое? Люди больше не живут своей жизнью. Они настолько охотно ею делятся, что перестают существовать. Пару лет назад я снимал для «Нокии» ролик в Риме – ну, помните, тот, с видеокамерами. Они проводили конкурс короткометражек, снятых на мобильные, и собрали две группы жюри: одну возглавлял я, другую – Вим Вендерс. А потом мы давали пресс-конференцию в Риме, и Вим Вендерс говорил очень умные вещи. Я и не знал, что он такой остряк. Так вот, что меня смущает: пока вокруг сплошные мобильные телефоны и прочее, пока все болтают о коммуникациях, мне хочется научить людей быть наедине с собой. Научить их прекратить общение. Когда ты один, ты узнаёшь, кто ты такой. Выкиньте свои мобильные, хватит писать в «Твиттере», изолируйте себя. Начните одинокую жизнь! Каждый должен быть один, я много об этом говорю в последнее время. А то все лезут в эти социальные сети, и лезут слишком уж усердно. Это, в общем, не конец света, но ведь куда интересней быть самим собой. Вы же не просто член общества, вы – индивидуальность. А в Риме… Ну, не знаю. Мы должны были рекламировать мобильные телефоны, а я-то их ненавижу (смеется). А в кинотеатре эта «одиночность» возможна? Ведь в некотором смысле человек остается наедине с самим собой… Дома, перед телевизором с DVD, даже лучше. Я призываю всех смотреть мои фильмы по телевизору! (смеется). Постоянно быть одному нельзя, какое-то время необходимо отдавать общению. Я, к примеру, еду в Италию – и я там один-одинешенек. Семья остается дома. Жена точно так же ездит во Францию – чтоб забыться, убежать. И тут начинают происходить важные события с твоим «я»… Я ненавижу «Твиттер». Ты ж буквально пишешь: «Сижу в ресторане, всё здорово». Какого черта? А люди тратят столько времени на это. Знаете такого комика – Эдди Иззарда (Eddie Izzard)? Он прекрасен. Он начал писать в «Твиттер» в начале года, и через четыре месяца его читало уже 600 тысяч человек. Зачем? Как они живут? Мне кажется, их жизнь пуста. И чем скорее они умрут, тем лучше (смеется). Извините, я шучу. С этого и должен начаться тот отбор, о котором я говорил. Думаю, он начнется именно с «Твиттера». Мы же знаем, где они все сидят, осталось только выслать киллеров (смеется). Ладно, давайте вернемся к кино… Но мы же можем спасти мир! Все будут спрашивать: «Это он серьезно?» Мы говорили об идее, стоящей за каждым из ваших фильмов, и остановились на «Двенадцати обезьянах». Что скажете насчет «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998)? Эта книга преследовала меня десять лет кряду. Для моего поколения это идеальная книга. Мы считали, что сможем изменить мир, открыть людям глаза и все такое. А потом всё резко испортилось. Началась война… Так что эта книга очень много для меня значила, потому как я прочел ее в 1971 г. Я эмигрировал из Америки и попал в неприятную ситуацию: меня могли заставить вернуться и пойти служить во Вьетнам. Я уже готов был отказаться от американского гражданства, лишь бы избежать своей участи. А тут эта книга… Я прочел ее и подумал: «О да, как же мне это близко». В фильме есть эпизод, где Хантер Томпсон (в исполнении Джонни Деппа) рассуждает о Тимоти Лири, об иллюзиях и разочарованиях шестидесятых. Ага. Ну, Лири, если честно, всегда казался мне немного мошенником. Да, он ввел многих людей в мир психоделиков, но не он это придумал – достаточно вспомнить «Двери восприятия» Хаксли. Все уже и так испытали это на себе. Но Лири занялся именно ЛСД, и у него появилось множество последователей. В то время, пока все вокруг экспериментировали над собой, многим приходилось за эти эксперименты расплачиваться. Хотя шаг – даже прыжок – вперед мы сделали. Люди в то время делились на храбрецов и идиотов. Но даже это было интересней, чем события во Вьетнаме, где тебя могли ни за что ни про что укокошить на совершенно абсурдной войне. Эта война началась из-за полнейшего непонимания смысла коммунизма, его принципов работы. Глупо вышло. Но Америке нужны войны. Понимаете, когда страна производит больше всего оружия в мире, ей необходимо разбивать эти самолеты и взрывать эти бомбы, чтоб делать новые самолеты и новые бомбы. Это законы промышленности, законы экономики. Это важно. Мне долгие годы слали сценарии по этой книге, но я всякий раз отказывался, потому что был занят чем-то своим. А тут подвернулся этот сценарий… Алекса Кокса (Alex Cox) к тому моменту уже уволили, Джонни (Депп) и Бенисио (дель Торо) дали свое согласие участвовать в проекте, а мне очень хотелось поработать с Джонни. И я сказал: «Ну, что ж, давайте я этим займусь». Мне ужасно понравилось работать над этим фильмом. Нам было очень весело. Работали мы очень усердно и очень быстро. Бюджет был маленький – не по европейским меркам, конечно, 16-17 миллионов примерно. Но мы-то снимали в Голливуде и в Лас-Вегасе. И снимали на сумасшедшей скорости. Я постоянно повторял: «Мы – акулы. Мы не можем оглядываться, мы можем двигаться лишь только вперед. Раздумывать некогда». Круто было. А фильм получился, между прочим, очень серьезный (смеется). Он повествует об утрате мечты, о том, что делать, когда мечта утрачена. А делают люди обычно вот что: они превращаются в монстров, звереют, рвут и мечут, чтоб познать правду после того, как всё испохабилось. Это грустный фильм, но пока он достигнет пика отчаянья, вы успеете вдоволь насмеяться. Перейдем к «Братьям Гримм» (The Brothers Grimm, 2005). Это снова… …изменение курса. У меня было много готовых сценариев, например, к фильму «Дефективный детектив», и я писал новый – «Добрые предзнаменования». Накопилась куча всего, а дело не шло. Просто застой. Тогда Чак Ровен, продюсер «Двенадцати обезьян», показал мне сценарий «Братьев Гримм». Мне он не понравился, но работать-то надо было. И он выдвинул убедительный аргумент: «Терри, сколько лет уже прошло? Пора бы вернуться за работу. Нельзя ж все время бездельничать». А братьев Гримм я любил, я рос на их сказках. И вот, мы с Тони Грисони стали править сценарий. Кое-что я улучшил, но кое-что осталось неизменным. Я подумал, что смогу, по крайней мере, создать красивый мир и сам немного повеселюсь. А потом мы начали съемки… Студия, к сожалению, отказалась давать нам финансирование – а мы в это время со всей съемочной группой были в Праге. И что нам, спрашивается, делать? У нас заняты Хит Леджер и Мэтт Дэймон, в конце концов. Чак судорожно пытался найти деньги из других источников, а мы уже сидели на чемоданах, когда вдруг нагрянули Вайнштейны. А я до того клялся, что ни за какие коврижки не соглашусь с ними сотрудничать. Я-то знал, что это за люди. Пусть они занимаются своим делом, а я буду заниматься своим. Но спасти нас в тот момент могли только они. И я подумал: «Может, попробовать?» Вот только сотрудничество сразу не заладилось, они принялись ставить свои условия еще до начала съемок. Братья Вайнштейны подарили нам множество прекрасных картин, они лучше всех умеют продать свой продукт, они очень необычные продюсеры, но режиссура – это не их работа. А им хотелось быть именно режиссерами. Никто никогда не вмешивался в мои дела так нагло, как они. Если бы я был ребенком, это можно было бы причислить к жестокому обращению с детьми (смеется). Из-за них ситуация стала совсем плачевной, и к съемкам я приступил не в лучшем настроении. Они контролировали каждый мой шаг. Когда они не разрешили мне взять актера, которого я хотел (Робина Уильямса), я страшно огорчился. Не люблю я такое. Мне вообще не хотелось снимать этот фильм. В первый же день я думал вернуться домой. Потом, на четвертой неделе, моего оператора, человека очень прямого и не привыкшего стесняться в выражениях, уволили. Я подумал, что это мой шанс убраться оттуда. Но мой адвокат сказал, что все не так просто и придется продолжать. Очень неприятный был опыт. Разве что с Мэттом и Хитом было интересно работать, да и со всей нашей группой. Мы здорово проводили время. А конечный результат устроил Боба и Харви Вайнштейнов? Нет, не вполне. И меня тоже. Этот фильм – детище двух групп людей, которым противопоказано трудиться вместе. Чего же они хотели? Да не знаю я, чего они хотели, откуда мне знать? Они сами этого не знали. Хотели, чтоб получился приключенческий блокбастер. И при этом повторяли, что им нужен типичный фильм Терри Гиллиама. Когда сами постоянно совали свой нос в мои дела! Ну, скажем, «Банды Нью-Йорка» – это хороший фильм? Мы с Марти сказали одно и то же, слово в слово: «Они лишили нас радости создания кино». Они так всегда поступают, потому что сами хотят быть режиссерами. Хотят, чтоб по фильму было видно: это их фильм. А с такими людьми, как я и Марти, этот номер не пройдет. «Братья Гримм» – неплохое кино, мне оно, по большей части, нравится, но я мог бы снять лучше, если б не был постоянно удручен. После того как моего оператора уволили (за то, что он якобы медленно работает), они привели своего. Их оператор оказался еще медлительней. Но это их ставленник, я тут ни при чем. Не моя это проблема, подумал я. Этот Том – он милый парень и хороший оператор, свет ставит замечательно, но если у него на это уйдет несколько месяцев, мне плевать (смеется). Так дела не делаются. Многие работают в подобных условиях, но это на самом деле очень плохо. Правда, в этом фильме есть куски, которые, на мой взгляд, не хуже остальных моих фильмов. Я сейчас уже и не помню, что бы я там поменял. Я только знаю, что, будь я в хорошем настроении, мы бы могли насладиться процессом куда больше и добиться лучшего результата. Теперь – «Страна приливов» (Tideland). Что вас в ней привлекло? Сама книга. Я прочел ее и подумал: «Это же просто чудо!». Этот Митч Каллин, он великий писатель. Я просто влюбился в персонажей. У Джелизы-Розы такое непосредственное детское восприятие. Книга написана от первого лица, она как бы вспоминает те события уже в зрелом возрасте. Мне не хотелось использовать этот прием. Читатель в каком-то смысле чувствует себя в безопасности: он знает, что девочка выживет, чтоб поведать свою историю. Но я подумал, что будет интересней, если зрители этого знать не будут. Тогда можно создать более напряженную атмосферу. Мы довольно быстро написали сценарий, потому что в книге уже всё и так заложено, оставалось только отредактировать. Как по-вашему, о чем это произведение? Какова его основная идея? Мне очень хотелось изменить отношение людей к определенным вещам – например, к этому вездесущему страху смерти, к педофилам, к уязвимости детей. Это фильм о детской выносливости, об их силе, об их способности снести любые невзгоды. Мне так надоели эти признания: «О, меня растлевали в детстве, я пал жертвой взрослого мира». Все только о том и твердили – все, кто хотел добиться сочувствия, или привлечь к себе интерес, или просто попасть на страницы газет. Мне надоело, что наших героев превращают в жертв, пошли они в жопу (смеется). И я набрал самых лучших актеров. Актеры в этом фильме выкладываются на полную. Представьте только, я уговорил своего старого друга Джеффа Бриджеса сыграть мертвеца… (смеется). Со «Страной приливов» получилось забавно. Сейчас меня всё чаще хвалят за него, а тогда, когда он только вышел, критики его просто возненавидели. Теперь же люди вдруг интересуются этим фильмом, всё больше и больше людей. За это я и люблю DVD. Фильмы не умирают, они спят на этих дисках. Сейчас уже ничем нельзя оправдать свое невежество: если хочешь узнать о кино абсолютно всё, можешь… Впрочем, я сам не хочу. Поэтому я не хожу в прокат и ничего не смотрю (смеется). Я стараюсь быть один и не хочу, чтоб фильмы мне мешали в достижении этой цели. В «Стране приливов» очень сильные героини, тогда как вы обычно снимаете приключения героев-мужчин. Все мы делаем то, в чем хорошо разбираемся. Мне кажется, Мэделин Стоу (Madeleine Stowe) прекрасно сыграла в «Двенадцати обезьянах», а далеко не все признают ее заслуги. В «Бразилии» у Ким Грист (Kim Griest) была большая роль, но как-то она не вписывалась в общую канву, пришлось вырезать. Ее героиня была женщиной очень умной и независимой, а она этого не могла понять. Так что нам пришлось резать, и резать, и резать, пока не осталась лишь девушка из сна. Изначально всё должно было быть по-другому. А «Король-рыбак»! В нем аж две отличных женских роли. Но это чужой сценарий, а этот человек умел выписывать женские роли. Я вот, к примеру, не умею. Митчу Каллину женские образы тоже даются с легкостью. «Страна приливов» – это, наверное, мой самый женский фильм (смеется). Я понимаю эту маленькую девочку, она мне небезразлична. Помню, был один французский журналист, который посмотрел фильм первый раз, и он ему жутко не понравился. Мы с ним дружили, так что он решил не рубить с плеча и пересмотреть. На второй раз он влюбился. Он сказал, что у него будто открылись глаза и он увидел чуть ли не самый проникновенный фильм в моей карьере. Правда, странно, что он сразу этого не заметил? Может, всё потому, что на середине фильм резко меняет тон? Я имею в виду, когда начинается таксидермия. Так ведь тут начинается самое интересное! (смеется) Возможно, некоторые люди к такому не готовы. Но, опять-таки, они отказываются меня слушать! Этой женщине, практически уже уничтоженной, удается его вернуть! Ну, хотя бы его кожу (смеется). Лучше уж кожа, чем ничего. Это же отчаявшиеся люди, этим-то мне и понравилась книга – своими причудами, своими крайностями. Но в то же время, за причудами и крайностями всегда чувствуется нежность и любовь. Для детей мир еще не сформирован до конца. Процесс продолжается. Но дети, мне кажется, рождаются с позитивным взглядом на вещи, всё зависит от того, сколько позитива у них отнимут. Пока они вырастут, позитив обычно отнимают весь, до конца. Но некоторые умудряются уцелеть. Я стараюсь не врать в своих фильмах. Даже если это воображаемый мир, нужно время от времени подавать сигналы: это понарошку. Сейчас у вас выходит новый фильм – «Воображариум доктора Парнаса» (The Imaginarium of Doctor Parnassus). Вы возобновляете работу над «Дон Кихотом» (Don Quixote). Что вы можете сказать об этих двух фильмах? Что побудило вас к их созданию? С «Кихотом» проще, потому что там речь о человеке, который отказывается признавать реальность других людей, отказывается признавать даже ту реальность, которая и в самом деле реальна. Отказывается наотрез. Он настроен превратить мир в чудесное, необыкновенное место. А еще это старик, который пытается хоть что-то успеть, пока не умер. Хоть что-то! Это его последний шанс. Я сейчас тоже старик, так что совпадение идеальное. Странно, что книжку я полюбил еще в молодости, что-то тут не так (смеется). В этом заключается основная идея «Дон Кихота». В том, как донкихоты всей вселенной вдохновляют людей своим безумием. В фильме, впрочем, будет еще один момент, но о нем я расскажу, когда закончится производство. Что касается «Парнаса», то меня всегда интриговала мысль о предмете из другого мира, угодившем в наш мир (или наоборот, неважно). Истории можно рассказывать на старинный манер, и вот – старинный балаган попадает в современный город. Никому он не интересен, потому что это же старье. Но если закрыть глаза на рухлядь и позволить фокусникам увести тебя в путешествие, произойдет много чего сверхъестественного. Расширятся границы твоего воображения. Но тут мы вводим новый элемент – о неизбежности выбора. Мол, ну, расширил ты границы своего воображения, насмотрелся всякого, теперь пора выбирать. За неверный выбор тебя ждет наказание. А вот если ты поступишь правильно… Этого вы, в общем-то, не увидите. Разве что на лицах зрителей, выходящих из зала. Тут, опять же, надо подключать воображение. В центре повествования – человек, который заключил сделку с Дьяволом. По условиям этой сделки, Дьяволу достанется его дочь, когда ей исполнится шестнадцать. Тут случается неожиданный поворот, он даже в трейлере отображен неправильно, потому что Парнас действительно бессмертен. Он выиграл бессмертие в споре с Дьяволом. Но он влюбляется, будучи очень, очень старым человеком, и хочет снова стать простым смертным, чтоб помолодеть, пожить в любви. За это ему приходится заплатить дорогой ценой – своей шестнадцатилетней дочерью. Так что история несколько сложнее, чем кажется (смеется). В ваших фильмах всегда присутствует ребенок – как вы сами выражается, «блаженный». Порой это очевидно, порой его приходится долго искать. Кто же является им в «Бразилии»? У нас есть сантехник Арчибальд Таттл, активистка Джилл Лейтон и мечтатель Сэм Лоури… Да, он мечтатель – и он же блаженный. Точнее, не блаженный, а просто дурак. Это фильм об ответственности, а он отказывается ее на себя брать. Он же угодил в самое сердце министерства, а может только мечтать! Так я отношусь ко всему человечеству (смеется). Мы все растем, прячемся в мире своих грез, но внешний мир-то никуда не девается. Ты несешь за него ответственность. Представьте себе парня, который наделен очень большой властью, который может сказать: да, я американец, – но он абсолютно не обращает внимание на то, что творится вокруг. Он член организации, но открещивается от действий своей организации. И за это несет наказание. Он даже не ребенок – просто инфантильный мужик. Этим «Бразилия» и отличается от остальных моих фильмов. Тут не ребенок, тут недоразвитый мужчина – вроде как в фильмах Майкла Бэя (смеется). Мы же все время смотрим теперь фильмы для вечных подростков. Не для детей, но и не для взрослых. А вспомните того же «Валли». Чудный мультик! И «История игрушек» тоже чудная. В них мы видим мир глазами невинного ребенка. Люди из «Пиксара» это понимают. Но в то же время, это очень мудрые картины, поэтому я, наверное, так их и люблю. Вот о ком я забыл, когда перечислял своих любимцев! «Пиксар» и Джон Лассетер (John Lasseter). Он для меня просто бог (смеется). И хотя вы говорите, что не любите 3D и компьютерную графику, наш нормальный, обыденный мир все же приобретает сверхестественные черты. Ну нет, они не этим занимаются. Они занимаются мультипликацией. Что мне не нравится, так это претензии на натурализм, реализм в мультиках. Не то что даже не нравится – просто скучно. Что я искренне ненавижу, так это фильмы типа «Беовульфа» Земекиса. «Захват движения» (motion capture). Ты или мультики делай, в которых мир представлен абстрактно и всё позволено, или уже обращайся к реальным проблемам. Этот «захват движения» позволяет режиссерам быть богами, которыми им всегда хотелось стать. Богами-диктаторами! (смеется). Вы хотите сказать, что «Парнас» сделан дедовскими методами и «Дон Кихот» будет сделан так же? Нет! В «Парнасе» 650 кадров, обработанных на компьютере. Видите, я сам нарушаю собственные правила! Зачем мне ограничивать себя догмами, которые я же сочинил? (смеется). Понимаете, в «Парнасе» всякий раз, когда вы проходите через зеркало, вы попадаете в новую вселенную. Я руководствовался чистым прагматизмом, потому что трехсот миллионов бюджета у меня, естественно, не было. И я решил: 25 миллионов – и ни копейкой больше. А это в Америке максимальная сумма для малобюджетного кино. Большая часть действия разворачивается в реальном мире. Потом герои входят в зеркало. Потом выходят из него. Если делаешь что-то вроде «Кинг-Конга», надо обрабатывать каждый кадр, а это влетает в копеечку. На это и уходят сотни миллионов. И через какое-то время даже «Кинг-Конг» кажется тебе обыкновенным, нормальным фильмом. А мне хотелось бы удивлять людей. В этом и замысел – вернуться к волшебству. И «Кинг-Конг», и «Властелин колец» сняты выше всяческих похвал. Я не противник высоких технологий. Я просто не могу их себе позволить (смеется). А кто в этих фильмах похож на ребенка? Кто помогает зрителю проникнуться магией? Наверное, Парнас. Это не бросается в глаза, потому что рядом околачивается молодой парень, невинный даже в некотором смысле – Антон. Но это мир Парнаса, его история, он и есть фильм. Я сам не уверен, что верю ему. И во время съемок я все время подозревал, не жулик ли он, не врет ли он всем нам. Потому что слишком уж он похож на меня самого! (смеется) Само собой, ваши персонажи во многом похожи на вас. Кто же из них приблизился к Терри Гиллиаму максимально? Не знаю даже. Я же не главный персонаж – я сразу все персонажи. И хорошие, и плохие? Ага. Приходится. Всегда есть персонаж, на которого мне явно хотелось бы походить. Есть такой, который просто всех веселит. Это сложно, но я хотя бы могу их любить, могу интересоваться ими. Они все становятся частью меня. Даже в актерах я ищу себя. С Джеффом Бриджесом в «Короле-рыбаке» получилось странно, потому что я же не знал, что он старается мне подражать, копировать мои движения и все такое. Я даже не узнавал самого себя, пока кто-то не сказал уже после выхода фильма: «Да это ж ты, Терри». Забавный был маневр. Он наблюдал за мной, имитировал мои жесты, а я ничего не замечал. Типа как Марчелло Мастрояни, когда он показывал Феллини: один – это красавец-актер, а другой – это и есть другой. У Джеффа очень хорошо получалось. Какие-то фильмы кажутся вам ближе, чем остальные? Я давно перестал об этом думать. Однажды мне, наверное, придется провести ретроспективу Терри Гиллиама для самого себя. Посмотрю все фильмы и пойму, какой из них мне ближе. Потому что сейчас я стараюсь их не смотреть, если нет крайней нужды. И я хочу дожить до того момента, когда наконец смогу их спокойно смотреть, забыв, что сам их снял. Пока не получается. Меня это просто сводит с ума: мне же тоже хочется смотреть свое кино, как его смотрят обычные зрители! А пока что я лишь выискиваю в них хорошие куски. Иногда я удивляюсь: а это, дескать, кто придумал? Даже не верится, что сам я и придумал. А иной раз возмущаюсь: «Какой ужас, и кому только пришла в голову такая глупость?!» (смеется) Но каждый ваш фильм при этом преподносит нравственный урок… Ага. Значит, если в «Бразилии» отображена ситуация на 1984 год, что такое «хорошо» и что такое «плохо» сегодня? Что, по-вашему, заслуживает внимания на данный момент? Думаю, «одиночность» и «Твиттер» (смеется). Мы об этом уже говорили. Я, как вы понимаете, не сижу за столом и не составляю список глобальных проблем, но это меня реально беспокоит. В первой версии «Дона Кихота» мы были одержимы мобильными телефонами. В первой версии сценарии телефоны были на каждой странице. Люди всё ходили по улицам и что-то там завывали в свои трубки – как правило, насчет полнейшей ерунды. Ну, знаете: вроде как коммуникация, а вроде и некоммуникабельность. Нас это реально беспокоило, но мы всё вырезали. Это уже устарело. Скукота (смеется). Но сейчас есть «Твиттер» и есть «одиночность», ими мы и займемся. Есть ли еще какой-то герой – мифический, легендарный, взятый из мировой литературы, – чей образ, как вам кажется, недостаточно изучен? Пока вроде нет. Так обычно не бывает, чтоб я загадывал наперед. У меня есть недоделанный сценарий о Тезее и Минотавре, мне всегда хотелось сделать древнегреческую трагедию. Но – опять же, это давно известные истории. Мне они нравятся: их можно комментировать по-новому, переосмыслять. В этом преимущество современности. До начала, скажем так, 60-х Библия была самым большим бестселлером в мире, все знали библейские сюжеты назубок. Поэтому и комментировать их было легко. А теперь – сложно, сюжетов стало как грязи. Я уже и не понимаю, какие истории известны всем и каждому. Кроме, может, «Крепкого орешка». Брюса Уиллиса все знают. И «Звездные войны». Эти сюжеты мне обыгрывать не больно-то интересно. Старые были глубже, с ними и забавляться было интересней. А что скажете насчет пиратов? Вы как-то упоминали о «хороших» пиратах. В «Страховой компании «Кримсон Перманент»» (The Crimson Permanent Assurance, 1983) у вас уже были корсары… О, пираты! Я всегда хотел снять фильм о пиратах. Я с ума сходил, когда вышли «Пираты Карибского моря». А почему вы так и не сняли фильм о Питере Пэне? Летающий мальчик плюс пираты… Да, там полный набор, но мне никто не предлагал его экранизировать. Кто вообще не хочет быть пиратом? Плаваешь по далеким морям, свободный такой, сам черт тебе не брат… Ну, грабишь людей, которые этого заслуживают. Проблема одна: раз стал пиратом – будешь теперь им всегда. Что и случилось в Джонни Деппом (смеется). Он, конечно, обречен. Название «Парнаса» – оно откуда взялось? Греческая гора, музы, поэзия?.. И то, и другое, и третье. Выяснилось, кстати, одно занятное обстоятельство: Хантер Томпсон в Сан-Франциско жил на улице Парнас. Не оставляет меня это словцо. Почему вы всегда окружены таким немыслимым количеством совпадений? «Братьев Гримм» делали с французами и немцами, «Дон Кихота» писали с ними же. «Бразилия» – и студия «Юниверсал», опять же… Это вы еще «Парнаса» не видели! Вот это провидческий фильм. Там есть строчка, которую Кристофер Пламмер вообще не хотел произносить после смерти Хита: «В мире полно историй – комедий, мелодрам… и историй непредвиденной смерти». Но каждое слово в сценарии было написано до того, как Хит умер. Погодите, вы еще с ума сойдете, как услышите весь текст в фильме. В одной сцене Джонни произносит длинную речь, и всем кажется, что это такой надгробный панегирик в честь Хита. Ничего подобного! Монолог был написан давным-давно. В ваших фильмах очень много загадочных перекличек. К примеру, в «Стране приливов» герой Джеффа Бриджеса едет на автобусе, обдолбанный вусмерть, и говорит: «Пока мы не доберемся до бабушкиного дома, нам грозит опасность». Зритель, разумеется, тут же вспоминает «Красную Шапочку». А вы в это время как раз монтировали «Братьев Гримм»… Строчка возникла сама по себе? Забавно. Но – нет, строчка есть в книге. Образуются какие-то связи. Я раньше об этом и не думал. Вот вам еще одна странная штука. Перед тем как Хит появляется в «Парнасе», мы видим карту Таро, на ней – висельник. Последний кадр с Хитом в «Темном рыцаре» – это он, висящий вверх ногами. Я сам заметил всего месяц назад. Вас никогда не пугают собственные возможности? Нет, не пугают. Я просто не знаю, что это за возможности. Есть такое понятие – морфический резонанс. Уронил предмет – пошла вибрация, пошла и не прекращается. Мы же все соединены. Если ты осознаешь мир вокруг себя, живешь в нем, думаешь о нем, рано или поздно это произойдет. На сей раз это произошло слишком очевидно. Давайте поговорим о Томе Уэйтсе. Он появлялся у вас в «Короле-рыбаке», и его музыка должна была играть в «Стране приливов». Да, я хотел использовать его музыку, но не вышло. Многие его песни меня вдохновляют, а с саундтреком потом в итоге не срастается. Я хотел взять одну его песню в «Воображариум», но он отказался, сказал, что хочет в нем сыграть. Он великий музыкант и, на мой вкус, величайший поэт-песенник в Америке. Мы с ним похожи: оба обращаемся к самым темным сторонам бытия, к самым красивым сторонам. Это его опоры: самые романтичные песни и самые страшные. Он необычный человек. И никто не сыграл бы Дьявола лучше, чем он (смеется). А Тони, которого сыграл Хит Леджер, – он в первоначальном сценарии должен был менять внешность при переходах через волшебное зеркало? Удачный прием, надо сказать… Нет. Некоторым теперь кажется, что из-за всего случившегося фильм стал еще волшебней, еще диковинней. Но Хит был настоящий хамелеон, я сам не знал, кем он окажется, шагнув в это зеркало. Я был готов к чему угодно. Теперь уж мне этого не узнать, а очень, кстати, любопытно! Мы будто бы играли друг с другом в такую непринужденную игру – он удивлял меня каждый день, чуть ли не в каждой сцене. Что ж ты, сукин сын, творишь, думал я. В тот месяц, который мы провели на съемочной площадке, он летал, как настоящий бумажный змей, а я только держал за ниточку. Он тоже хотел быть режиссером, и я разрешал ему всем заправлять (смеется). Хит Леджер умер посреди фильма. Довольно необычное событие для любого человека, а уж тем более для нас: мы-то любили его, это был потрясающий парень. Я просто сказал: «Всё, сворачиваемся. Проклятие Гиллиама еще не утратило силу». Но рядом, к счастью, очутились люди, которые возразили: «Ну уж нет, мы закончим. Последняя роль Хита будет в этом фильме, и мир этот фильм увидит». Плана у меня не было, поэтому я сразу же позвонил Джонни Деппу. «Джонни, что мне делать? Помоги». Хорошо, говорит, помогу. И через неделю, всё хорошенько обмозговав, мы пришли к выводу, что роль Хита будут играть трое разных актеров: Колин Фаррелл, Джуд Лоу и сам Джонни. Это оказалось нелегко, потому что все снимались в других картинах. Но эти смельчаки – а может, и глупцы – просто пришли на площадку и сделали всё, что надо, безо всяких репетиций. Никто не знал, сработает ли наш трюк, пока мы не показали фильм зрителям. Все решили, что так и задумывалось. Значит, трюк удался, подумать только. Этот фильм – акт любви, вот он что такое. И это великолепный фильм, хотя акты любви бывают скучноваты: можете спросить у моей жены (смеется). Но только не этот. Я чувствую, что мой долг – сказать хоть несколько слов о Хите Леджере, потому что о нем писали много всякой ерунды. Мол, сыграв Джокера, он свихнулся и всё такое. Да он смеялся, возвращаясь со съемок в «Темном рыцаре». Смеялся, потому что «убийство опять сошло ему с рук». С ним всегда было ужасно весело. И с Джонни Деппом тоже. Они излучают радость и заражают ею всех, кто находится рядом. Потому что на самом деле они очень умные ребята, готовятся очень серьезно, копаются в своих персонажах, вживаются в роль, а потом просто отбрасывают всю эту шелуху – и поехали. Мотор, игра началась! Вы говорите, что «Парнас» – это краткое изложение всех идей, которые не вошли в ваши предыдущие проекты. И да, и нет. Эти идеи всегда при мне, и, берясь за новый проект, я их перебираю и думаю: «Хм, а ведь недурно. И чего это я ее отбросил?» Потом, под конец, от первоначального замысла почти ничего не остается, но исходит всё отсюда. Здесь можно было снять и игровое кино, и историческое, и мультфильм. Всё сразу. На ваш взгляд, это веселая и смешная история о последствиях человеческих поступков. Мне, если честно, не вполне понятно, как фильм может быть веселым и смешным, если в нем человек продает душу своего ребенка Дьяволу. Ну, Парнас был очень умен и очень стар, ему казалось, что в таком возрасте детей у него уже не может быть. Там есть целая линия о его жене, которая чудом беременеет в шестьдесят лет. Он думал, что перехитрил самого Дьявола. Он ошибался (смеется). В какой мере Парнас – это Гиллиам? Парнас – это и я, и Чарльз МакКьюн, только в интерпретации Кристофера Пламмера. Он же, как любой актер, изображает какую-то часть себя, а не себя целиком. Я тоже так работаю и жду результата (смеется). А как у вас появился замысел «Дон Кихота»? Я всегда о нем размышлял, но книги до недавнего времени не читал. Одно дело – самому выдумать героя, а другое – прочесть о нем в книге и сравнить. Это очень мощная, неописуемая книжка. Первый поистине современный роман, ей-богу. Весь Пиранделло вышел из второй книги Сервантеса. Так вот, я ее прочел. А большинство людей, между тем, книгу не читало. Они знают о Дон Кихоте, о Санчо, о ветряных мельницах – и всё. Я начал впервые задумываться об этом после «Мюнхгаузена». Позвонил продюсеру Джейку Ибертсу и говорю: «У меня есть два громких имени, теперь мне нужно 20 миллионов долларов». Одно громкое имя – это Дон Кихот, второе – Гиллиам. Он и говорит: «Ладно, будут тебе деньги». А потом кто-то предложил мне больше денег – и понеслось. Я всё перевернул с ног на голову (смеется). Сколько раз вы брались за этот проект? Не знаю даже. В документальном фильме «Потерянный в Ла-Манче» (Lost in La Mancha) показаны две попытки, но если приплюсовать написание сценария, будет три. Сейчас – четвертая. И сценарий каждый раз менялся? Насколько он изменился к данному моменту? Сейчас это отличный сценарий, а раньше был паршивый (смеется). Семь лет мы решали юридические вопросы, и все мне говорили: «Ну, перепиши еще разок». А я отвечал: «Нет уж, хватит. Это идеальный сценарий. Лучшая моя работа». А потом, месяцев девять назад, нам вернули сценарий, и я наконец его прочел. Он никуда не годился – пришлось очень многое в нем менять. В основном, перемены коснулись двух главных героев. Мы не меняли их поступков и характеров, но если раньше это был современный рекламист, угодивший в 17-й век, то теперь он остается в 21-м веке. До того как заняться рекламой, он был режиссером, полным энтузиазма. А потом поехал в Испанию, в малюсенькую деревеньку, чтоб снять своё видение «Дон Кихота» – без копейки денег, зато очень духовно. Фильм попал на фестивали, получил кучу призов, режиссера заметили и пригласили в рекламную компанию на солидную зарплату. Таким образом, он предал искусство ради денег. А теперь он возвращается в Испанию, чтоб снять рекламный ролик с Дон Кихотом, и понимает, что деревенька, в которой он снимал кино, совсем неподалеку. Он едет туда и осознает, что испортил жизнь всем тамошним обитателям. Парень, сыгравший Санчо Пансу, спился и умер. Девушка, олицетворявшая саму невинность, решила стать профессиональной актрисой, уехала в Мадрид и превратилась в шлюху. А что, спросите вы, случилось со стариком, сыгравшим самого Дон Кихота? Он сошел с ума и считает себя Дон Кихотом. И вот, всё те же сцены повторяются с новым смыслом. Жалкое зрелище. Гораздо лучше моих старых фильмов. И актерский состав полностью поменялся? К сожалению, да. Жан Рошфор (Jean Rochefort) так и не научился ездить на лошади. Джонни занят своими «Пиратами» – часть 10, 12 и 13. Нам пришлось начать с чистого листа, а это всегда будоражит. Надеюсь, к съемкам мы приступим уже весной. Познакомимся с актерами, которым нужны деньги. Нам вот, допустим, деньги сейчас тоже не повредят. Но кто же заменит Рошфора, на которого вы так рассчитывали? Вам же нравилось его лицо, его жесты… Вы поэтому решили поменять персонажей? Нет. Но если человеку, с которым мы сейчас ведем переговоры, достанется эта роль, Дон Кихот у нас будет совершенно иной. Это уж точно! Не буду говорить вам, кто это, потому что стоит брякнуть – и пиши пропало. Иной Дон Кихот, скажем так. И новое название – «Человек, убивший Дон Кихота»… Это очень поэтичное название. Оно допускает разночтения (смеется). Убийца – это рекламщик, который заставляет Дон Кихота осознать свое безумие, вталкивает его в реальный мир и принуждает к благоразумию? В книге Дон Кихота губит как раз благоразумие. Но – нет, у нас Кихота реально убивают. Реальная смерть. Но за смертью следует преображение, вот оно как. Очень трансцендентальная развязка у нас будет. Вы можете сказать, что сейчас, накануне выхода «Парнаса» и запуска «Дон Кихота», вы делаете всё, что хотите, и так, как хотите? Вы чувствуете свой авторитет? Да не особо – всегда же так было. Правда: я никогда не терял власть. Да, признаюсь, я вырезал пять минут из «Мюнхгаузена». Ничего не менял, просто покромсал. Студия пообещала поддерживать меня, если я сокращу фильм до двух часов, а потом обманула. Но ничего важного я никогда не вырезал. Даже в американской версии «Бразилии», где кое-что пришлось поменять, не поменялось ничего по существу. Я мог контролировать процесс. «Бразилии» вообще насчитывается пять версий, и, как по мне, все они – один и тот же фильм. Но киноманы, они ж одержимы такими штуками: должна существовать только одна версия фильма, самая лучшая, а все остальные или теряются, или испорчены. Но одну и ту же историю ведь можно рассказать разными способами, как одну песню можно совершенно по-разному спеть. Главное, чтоб мелодия не менялась. В «Короле-рыбаке» всё осталось в целости и сохранности. И в «Двенадцати обезьянах». И в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе». Всё было хорошо, пока не появились «Братья Гримм». Мне не дали права окончательного монтажа, и я просто ушел делать «Страну приливов». Тогда меня позвали обратно, но я выдвинул одно условие: окончательный монтаж – за мной. То есть фильм, который вышел в прокат, он не мог быть лучше при сложившихся обстоятельствах. Это мой фильм, но он пострадал от моего дурного настроения. Со «Страной приливов» проблем не было вообще, мне с нею повезло – особенно по сравнению с другими режиссерами. Почему вы так часто берете за основу своих фильмов чужие сценарии и романы? Ведь сочинительство, похоже, доставляет вам самому немало удовольствия… Когда мне предложили делать «Короля-рыбака», я был страшно подавлен. Думал, что после «Мюнхгаузена» вообще уйду из профессии. Так и получилось. И сценарий «Двенадцати обезьян» мне тоже как-то сразу приглянулся. Понимаете, они очень скоро становятся моими. Или же я сам становлюсь ими, не суть важно. Я снимаю кино и никогда не чувствую себя конформистом. Но приятно было все же сказать насчет «Парнаса»: «Что ж, теперь сниму кино по собственному сценарию». Я будто хотел проверить, смогу ли я хоть что-то изобрести, вот так, на ровном месте. И это действительно здорово. И вы смогли… Да, смог. А прием в Канне… …был сказочный! Процентов девяносто одобрения и десять – осуждения. Для меня это блестящий результат! Я очень воодушевлен. С другой стороны, когда фильм показывали на открытии Мюнхенского фестиваля, один журналист рассказал мне историю. Смотрит он, значит, кино, а рядом сидит мужик в костюме. Поворачивается и говорит: «Никто это смотреть не будет. Зачем вообще снимать такое дерьмо?» Меня всегда поражало, когда люди не видят то, что им показывают. Им кажется, что это просто бессмыслица, неупорядоченный хаос. После премьеры в Канне нас позвали на ВВС. В студии было три человека: один – он явно считал себя крутым интеллектуалом, ему фильм страшно не понравился. А двум другим – мужчине и женщине – фильм понравился чрезвычайно. Что интересно, этот интеллектуал пытался всё четко разъяснить. А двое других, которые тоже за словом в карман не лезли, говорили мало. Только твердили: «Нет-нет, это шедевр». Им не хотелось проводить интеллектуальный анализ. Они и так поняли мою картину. А этому умнику пришлось нелегко, потому что он не сумел вовремя расслабиться. Учитесь играть, люди! Подпускайте фильмы к себе поближе. Зачем сидеть в зале и раздумывать над будущей рецензией? Просто смотрите, и делов-то! Если хотите написать рецензию, вы должны многое запомнить. Иначе придете домой – и что? «Я просидел два часа в кинотеатре, но ничего не запомнил»? Хорошие рецензии пишутся не так. Я ненавижу кинокритиков, потому что они всё время что-то строчат с маленькими фонариками в руках. Сперва кино досмотрите – а потом уже будете писать о нём. Перевод: Антон Свинаренко, montypython.ru |